О предательстве и измене идеалам в среде заключенных Соловецкого лагеря
"Человек привык себя спрашивать: кто я? Там ученый, американец, шофер, еврей, иммигрант... А надо бы всё время себя спрашивать: не говно ли я?"
( Довлатов Сергей )
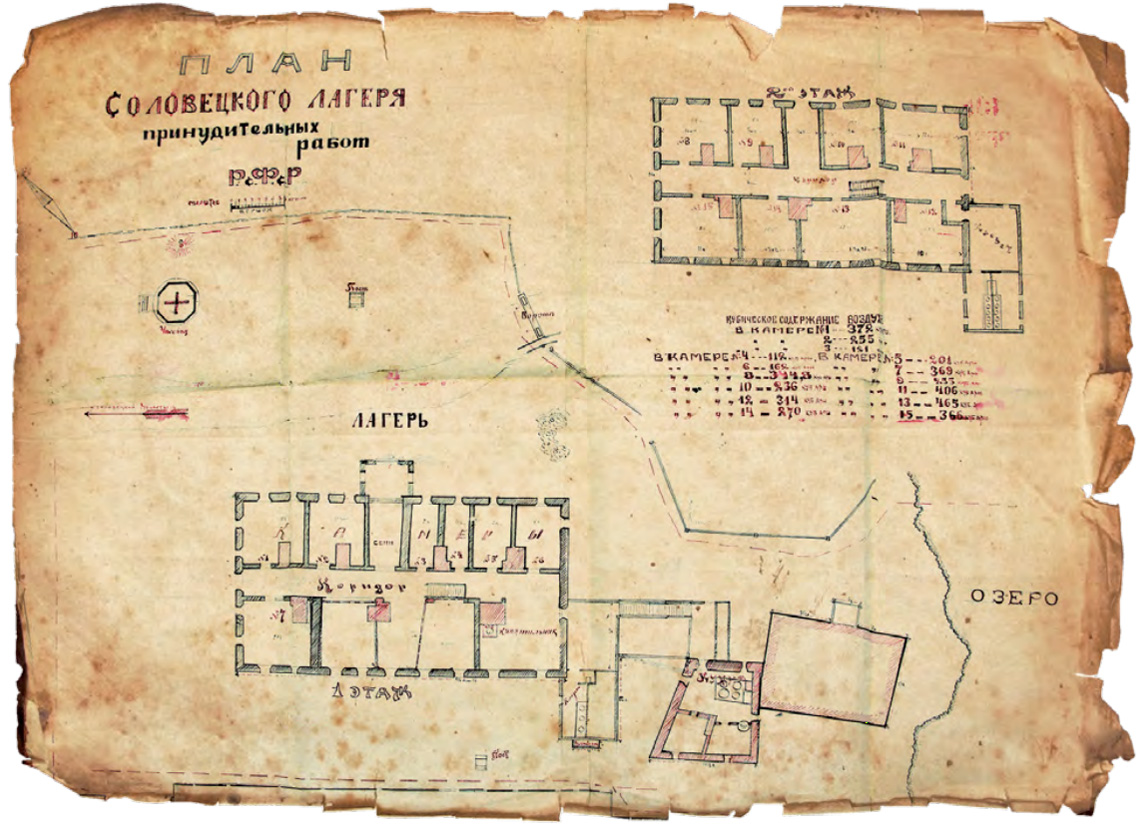
Предательство и измена никогда не возникали сами по себе. Во всех случаях, ставших известными в Соловецком лагере или тюрьме, всегда присутствовала третья сторона - некий инициатор, побудитель, подталкивающий слабого человека к измене. Обычно к подлости заключенного активно готовил сотрудник из "органов". У них это называлось "оперативной работой", а продукт этой работы назывался "продаванец".
"Госбезопасность сильна отнюдь не штирлицами, накачанными «альфовцами» или профессиональными «топтунами». КГБ вовсе не благодаря им столько десятилетий контролировал все, что происходило на территории Советского Союза. Опору комитета составляла огромная армия стукачей, каждый из которых в своих интересах мог безнаказанно отравить жизнь практически любого советского человека." ( Андрей Солдатов, Ирина Бороган. Ренессанс стукачества. «Ежедневный Журнал», Москва, 18.05.2006)
Чекисты "уговорили" покаяться и публично отречься
 "Очень тяжела была эта зима для Шуры Федодеева, ставшего моим близким другом. После его ареста у него родился сынок. Жена Шуры тоже была эсеркой. В связи с беременностью и родами она отошла от партийной работы. И все же ее послали в ссылку. В ссылке, далеко в Сибири, ей жилось нелегко. Ее родители стали хлопотать и добились перевода к ним. Шура не одобрял этот перевод, отрыв от ссыльных товарищей. И он оказался прав. Перед натиском родных, перед соблазнами жизни Циля не устояла. Шура стал получать письма о том, что ей с ребенком нецелесообразно жить так, что все окружающие убеждают ее написать письмо с отказом от общественной деятельности, посвятить жизнь ребенку.
"Очень тяжела была эта зима для Шуры Федодеева, ставшего моим близким другом. После его ареста у него родился сынок. Жена Шуры тоже была эсеркой. В связи с беременностью и родами она отошла от партийной работы. И все же ее послали в ссылку. В ссылке, далеко в Сибири, ей жилось нелегко. Ее родители стали хлопотать и добились перевода к ним. Шура не одобрял этот перевод, отрыв от ссыльных товарищей. И он оказался прав. Перед натиском родных, перед соблазнами жизни Циля не устояла. Шура стал получать письма о том, что ей с ребенком нецелесообразно жить так, что все окружающие убеждают ее написать письмо с отказом от общественной деятельности, посвятить жизнь ребенку.
Шура в ряде писем старался удержать Цилю от этого шага. Как раз перед нашей голодовкой он послал ей решительное письмо. Он писал ей, что отречение от партии означает отречение и от него. В первом письме, полученном после голодовки, сообщалось о том, что Циля опубликовала в газете письмо с отказом от партии с.-р. Шура не ответил на это письмо. Долго и упорно бегал он по кругу нашего прогулочного двора. Все сочувствовали ему, все понимали его. Люди, давшие в печать письмо с отказом от партии, отрекшиеся от своего прошлого, от всего того, за что мы шли в тюрьмы и ссылки, во имя своих узких личных интересов, осуждались нами.
Я очень хорошо понимала Шуру. Когда-то и я пережила такую же утрату. Но я потеряла друга, а Шура пережил утрату жены и, вероятно, сына.
В те годы было достаточно печатного отречения от своей прошлой деятельности, от своих прошлых убеждений, и человек возвращался из тюрем, из ссылок к жизни.
Мы понимали, что человек отказывается от своих убеждений во имя житейских благ, но путь погони за благами был скользким путем. На каком месте наклонной плоскости может человек поставить точку... Сможет ли устоять перед новым нажимом, раз пойдя на сделку с совестью? Сможет ли кто-нибудь, кроме нас, понять такое отношение к этим людям? В нашей среде для них был создан особый термин, выдававший наше отношение к ним, — «продаванец»." (Олицкая Екатерина. Мои воспоминания. Ч.1. Гл.1-6. Изд-во «Посев», Франкфурт-на-Майне. ФРГ. 1971)
Конец предателей, провокаторов и стукачей на Соловках оказался удивительно одинаков
 "Талантливый провокатор, бывший милицейский начальник А.П. Попов, погубивший десятки заключённых, расстрелянных будто бы за участие в Кремлёвском заговоре, был обнаружен 5 марта 1930 года висящим на соловецкой осине. Мстителей не искали: по ироничной версии следователя, иуда «покончил жизнь самоубийством под влиянием чтения упаднических стихов Есенина».
"Талантливый провокатор, бывший милицейский начальник А.П. Попов, погубивший десятки заключённых, расстрелянных будто бы за участие в Кремлёвском заговоре, был обнаружен 5 марта 1930 года висящим на соловецкой осине. Мстителей не искали: по ироничной версии следователя, иуда «покончил жизнь самоубийством под влиянием чтения упаднических стихов Есенина».
Лагеря создавались для перековки личностей в безликую толпу, которая легко поддаётся манипулированию. Яркие индивидуумы, как положительные, так и отрицательные, были чужды сообществу, где «счастье не в том, что один за всех, а в том, что все, как один». Лагерная система стригла всех под одну гребёнку. Незаурядного большевика Я.Д. Мотыля, автора по-своему ярких и талантливых доносов на режиссёров лагерного театра, перевели подальше от кремля — на Анзер, в Кирилловскую зону, а там его в июле 1932 года застрелил охранник штрафник Пайков. Мотыль якобы отказался работать и бросился к лесу. Надзиратель выстрелил вдогонку, а Мотыль на бегу обернулся, поэтому пуля попала не в спину, а в грудь…" (Бродский Юрий. Соловки. Лабиринт преображений. Изд-во: Новая газета. Москва. 2017.)
Вова Коневский в СЛОНе на общем режиме
Больше всего волновал группу один вопрос. В их среде находился парень лет 18, Вова Коневский. Был он сухорукий, одна рука у него висела, как плеть. Во время следствия Вова вел себя недостойно, он не устоял, выложил перед следователем все, что ему было известно о борьбе студенчества за свободную школу, назвал имена ряда товарищей. После приговора, встретившись с товарищами, он признался им во всем. Молодежь не могла прийти к единому решению. Одни бойкотировали его, другие считали невозможным осуществлять бойкот потому, что Вова больной, однорукий и без помощи товарищей погибнет в тюрьме, третьи, наконец, полагали, что в связи с полным раскаяньем Вовы, всю историю надо предать забвению. Но на наш вопрос о том, предал ли Вова, все отвечали, что предал. Коневский так и жил. Кто бойкотировал его, кто только сторонился. По большей части он бродил один, при нем воздерживались от споров и бесед, но окончательно отношений не порывали. Решился вопрос Вовы, когда приехали старосты принимать этап в скиты.
[ … ]
Вова Коневский — на общем режиме 3/к, находившиеся в кремле, были разношерстны по своему составу и не имели никакой внутренней организации. Они жили по принципу «каждый за себя». Тюремный паек на общем режиме был хуже пайка политзаключенных. Лучше обеспеченные помощью из дома или умеющие добиться расположения администрации — жили лучше; другие — голодали, заболевали цингой, умирали. Все они работали на разных работах. Если в скитах произвол администрации наталкивался на сопротивление коллектива, то в кремле ничего подобного не было. Голодный и без того тюремный паек часто разворовывался. Воровали все — сверху донизу: завхозы, повара, раздатчики пищи. Воровали и з/к друг у друга. Кремлевский режим был ужасен. Нам молодым, он казался, во всяком случае, страшным. Нас ошеломило решение старост оставить Вову в кремле. Будь еще он здоров! Но он был болен. Сухорукий, он даже одевался с трудом. Во время следствия Вова предал своих товарищей, но ведь он молод, разве он не может исправиться? Надо пытаться выправить его, а не выбрасывать из коллектива. Не толкать по наклонной плоскости.
Вова, очень расстроенный решением старост, держался мужественно. Вся молодежь окружила его теперь теплотой и вниманием. Даже те, кто в свое время бойкотировали его, выражали свое участие, обещали добиваться его приема в скиты впоследствии. Молодежь подчинилась решению старших товарищей, но согласна с этим решением не была, и, чем могла, старалась смягчить удар, нанесенный Коневскому. Все мы знали — сейчас мы покинем кремль, уйдем в скиты, а Коневского переведут в бараки на общий режим. Я горячо спорила по этому вопросу с Иваном Юлиановичем Примаком. Меня поразила жестокость этого обычно мягкого и чуткого, даже нежного в отношениях с окружающими человека. Мне казалось даже, что его большие серые внимательные глаза стали холоднее и уже под черными нахмуренными бровями.
— У нас нет возможности проявлять чувствительность и сентиментальность, — говорил он.
— Если Коневский стоящий парень, он оправится и поймет, что иначе поступить мы не имеем права. Мы не можем рисковать всем коллективом во имя Коневского, коллектив дороже Коневского. Что, если мы его пожалеем, а он, как только наступят трудности, снова предаст? Кто будет в ответе за весь коллектив?
Рассуждения Примака казались мне неубедительными, передо мной стоял живой человек. Закончил спор Примак суровым голосом:
— Я был в худших условиях, чем те, в каких был И будет Коневский, и выжил. Выживет и он. а если сломается, значит, решение относительно него верно. Перед нами нелёгкий путь.
Вспоминая о Коневском, я забегу вперед и расскажу о его дальнейшей судьбе. Полгода провел Коневский в кремле. Его состоятельные родители помогали ему переводами и посылками. Но тосковал он очень. Через полгода, под нажимом молодежи, Коневский был принят в скит. Окончив срок тюрьмы, а может быть, и ссылки, Коневский вернулся в Ленинград. Там он встретился с другими, вернувшимися из ссылки, товарищами. В 1935 году вместе с группой других был арестован вновь и Коневский. И снова он выдал всех, больше того, он давал показания о том, что было и чего не было, оговорил товарищей. Рассказала мне об этом Тася Попова, привезенная в Суздальский политизолятор в 1936 году по окончании следствия. Ее, ее мужа, Массовера, и еще ряд товарищей Коневский предал и оговорил. Так утверждала Тася, она была в этом убеждена.
Мне было уже 36 лет. Больше 12 лет отделяло меня от юношеского спора с Примаком, но суровый взгляд его серых глаз я видела так же ясно и теперь. Я будто слышала, как он говорил: «Жестока жизнь, и часто приходится быть жестоким»*. Милый Иван Юлианович! Как трудно было спорить, наверное, тогда с наивной и прекраснодушной девушкой. Он не убедил ее тогда! Увы! Жизнь потом убедила." (Олицкая Екатерина. Мои воспоминания. Ч.1. Гл.1-6. Изд-во «Посев», Франкфурт-на-Майне. ФРГ. 1971)
Позднее Екатерина Олицкая ещё раз подтвердила, что политзаключенные избавились от предателя: "Потрясло меня и всю студенческую молодежь то, что Вова Коневский не вошел ни в одну группу, он оставался в кремле на общем режиме."
Поделиться в социальных сетях
